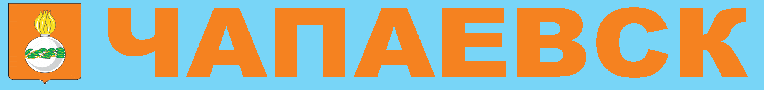|
|
|
В.И.Чапаев По горам Уральским, По степным долинам Пролетают кони Шибче птичьих стай. Пролетает с песней, С саблей золоченой Впереди отрядов Боевой Чапай. (из нар. Песни)
I. Введение Кто такой Василий Иванович Чапаев? Задавшись однажды подобным вопросом, мы решили для начала выяснить мнение окружающих людей. Как мы и ожидали, ответы были настолько непохожие друг на друга, что можно было подумать, что мы спрашивали не о конкретном человеке, а об абсолютно разных людях. Некоторые вместо ответа рассказывали нам анекдот из серии «про Чапая», другие говорили, что это герой из старого фильма, третьи отвечали коротко и сухо: «Командир 25-й стрелковой дивизии», а поклонники творчества В. Пелевина цитировали что-нибудь из «Чапаева и Пустоты». Что ж, видимо, Василий Иванович Чапаев – интересная для исследования личность, которую можно рассмотреть с разных сторон. История жизни В. И. Чапаева, согласно различным биографическим источникам, наполнена героическими подвигами и немыслимым количеством побед. Но так как даже эти восхваляющие личность Чапаева источники зачастую противоречат друг другу, то в их абсолютной достоверности можно усомниться. Но для чего же людям, хорошо знавшим Чапаева, воевавшим с ним бок о бок, было преувеличивать, лишая факты правдивости? Дело в том, что большинство воспоминаний, записок и рассказов о Чапаеве было написано через много лет после его смерти, и написаны они были не для того, чтобы отдать дань памяти этому герою, а по заказу властей. С середины 20-х до конца 30-х годов под контролем государства о Чапаеве создавалось много неправдоподобных легенд, ему приписывались качества, которыми он не обладал, победы, которых не одерживал. В своей работе мы приводим примеры того, когда в том или ином биографическом материале автор указывает даты или события, противоречащие данным из документов. Этот процесс мифологизации Чапаева постепенно отдалял настоящую, реально существовавшую личность от того, о ком писали в газетах, книгах, о ком снимали кино. Именно поэтому на сегодняшний день до нас дошло такое количество противоречивых материалов о Чапаеве, что доподлинно установить, где правда, а где миф, практически не представляется возможным. Стоит так же заметить, что процесс мифологизации личности Чапаева, начавшись в 20-х годах, не прекращается и по сей день. Вначале образ Чапаева представляли населению как героя, погибшего за власть Советов, причем подчеркивая то, что он ненавидел всякое проявление контрреволюции. Затем, во время Великой Отечественной Войны, Чапаеву приписывали ненависть к фашизму, любовь к отечеству. Теперь же, когда недостоверность и противоречивость в фактах является очевидной, В. И. Чапаева стали высмеивать в анекдотах, приписывая ему все большие небылицы, доходящие порой до абсурда, словно в отместку за то, что столько десятилетий приходилось равняться на этого героя, принимать его за кумира и пример для подражания. Что касается литературы о Чапаеве, то она, конечно, деформировалась вместе с изменением общественного сознания под влиянием идеологии, проводимой государством. Причем изменялось не только содержание, акцентирование внимания на тех или иных аспектах жизни В. И. Чапаева, – изменялась и форма, способы подачи этого материала. Например, начиная с 20-х годов, переписываются сказы, слагаются песни, изменяются различные народные произведения, сочиняются рассказы. В это время необходимо было превратить одного из многочисленных комдивов, которым Чапаев по сути дела и являлся, в непобедимого и бесстрашного, самоотверженного и прославленного героя, необходимо было сделать Чапаева повсеместно известным. Поэтому большинство найденных нами рассказов, повестей, пьес, сказов, песен, романов и другой художественной литературы относится именно к первой половине ХХ века. Научный материал, биографические исследования появляются только в послевоенные годы. В 1960-70-х годах издаются монографические труды, сборники документов, которые во многом опровергают созданные ранее произведения, уличают их в недостоверности, но, несмотря на это, тоже не являются полностью правдивыми, ведь и в них мы можем заметить преувеличения значимости личности Чапаева, противоречия в фактах. И, наконец, современная литература о Чапаеве тоже не очень многочисленна. Рассмотрев «Летопись журнальных статей» ИНИОНа начиная с 1991 года, мы обнаружили всего три публикации, посвященные В. И. Чапаеву, одна из которых – воспроизведение статьи Д. А. Фурманова 1919 года. Что касается научной литературы о Чапаеве, созданной за последние пятнадцать лет, то это в основном небольшие статьи или заметки в различных исторических справочниках и в сборниках по изучению советской культуры. Полноценного же исследования жизни и боевой деятельности В. И. Чапаева за последние годы не появлялось. Зато было создано огромное количество анекдотов и баек, где фигурирует этот герой гражданской войны; правда, стоит заметить, что образ, попавший в анекдоты мало чем напоминает реального В. И. Чапаева. То же можно сказать и о современных художественных произведениях о Чапаеве. Итак, в своей работе мы попытаемся проанализировать найденную нами литературу о В. И. Чапаеве, а так же другие источники, повествующие о его жизни и боевой деятельности. Далее мы рассмотрим процесс развития образа этого героя в искусстве, сопровождающийся мифологизацией Чапаева, попытаемся найти причины и проследить последствия этого явления. Нам было бы интересно продемонстрировать, как одна и та же личность может изменяться в восприятии общества в течение длительного времени, ведь Чапаев, живший век назад, и образ Ча-паева в сегодняшнем понимании очень сильно отличаются друг от друга. II. Реальный путь жизни Чапаева Немало написано о Чапаеве биографических повестей, рассказов и даже драм. В своей работе мы использовали биографические сведения из разных источников. Например, одной из книг, которые мы брали за основу, стала работа Ивана Семеновича Кутякова «Боевой путь Чапаева», так как она, на наш взгляд, одна из самых достоверных и полных биографий В. И. Чапаева. В подлинность и правдивость этой книги заставляет поверить тот факт, что автор был ближайшим соратником и другом Чапаева, а после его смерти, И. Кутяков принял на себя командование 25-й чапаевской дивизией. Хотя книга Кутякова и напоминает по стилю и методу изложения художественное произведение, все же в ней подробно рассмотрены не только сами события, но и планы военных наступлений с датами и описанием местоположений, представлены письма Чапаева. Конечно, в своем исследовании мы опирались на некоторые факты, взятые из романа Фурманова, но, как написал В.Л.Кузьмин, «"Чапаев" Д.А.Фурманова – не историческое исследование, не документальный очерк, а художественное произведение, где автор, естественно, допустил и фантазию, и выдумки, как и неточности и искажения» . Впрочем, стоит заметить, что неточности и искажения присущи всем биографическим работам о Чапаеве, ведь все они составлялись в советские годы, согласно политике, проводимой властями, и играли не только роль познавательного исторического материала, но и несли в себе цель пропаганды, агитации. Очень глубокое, всестороннее изучение и освещение жизни и боевой деятельности Чапаева развернули в своем монографическом исследовании исследователи А. В.Чапаев, К. В.Чапаева и Я. В. Володихин . Текстовое изложение фактического материала сопровождается схемами крупных сражений, подробно разработанными авторами, различными фотодокументами, поэтому данная книга так же является источником, который мы использовали в нашей работе. Так же богатый материал о боевой деятельности Василия Ивановича Чапаева имеется в книгах А. Б. Кадишева , Л. М. Спирина , А. С. Елагина , в статьях Г.Воронова, Н.Осипова, Н.Хлебникова, в различных воспоминаниях (например, Козлова В. , Пантелеева К. и др.) и в документах . Чапаев в дореволюционные годы. Для начала необходимо рассказать о происхождении фамилии Чапаевых. В рассказе «Чапай» В.Разумневич излагает разговор с жителем деревни Будайки, который лично знал Чапаева и его родственников: «Подрядился дед Василия Ивановича богатому купцу бревна грузить. <…> Выволакивают артельщики древесину на берег, а он их подбадривает: „Чепай, чепай ловчее!“ Правильней надо было кричать: „Цепай, захватывай ловчее!“ Да у нас, будайцев, есть особенность в говоре: вместо „Ц“ произносим „Ч“ <…> Привычка! Из-за этой самой привычки и прилипла к деду Василия Ивановича кличка „Чепай“. Корни рода Чапаевых – в Будайке. Отсюда пошла гулять его фамилия!» Конечно, целиком доверять описанной истории нельзя, так как для В.Разумневича основными критериями были художественность текста, увлекательность повествования, но подобный эпизод неоднократно описывался так же во многих других биографических источниках, в воспоминаниях знакомых семьи Чапаевых. Стоит так же заметить, что сам Василий Иванович Чапаев всю жизнь писал свою фамилию исключительно через букву «Е»: Чепаев. Что касается детства Чапаева, то оно в различных источниках представлялось по-разному, но в одном авторы и исследователи безоговорочно сошлись: все они повторяют, что детство Василия Чапаева было крайне тяжелым и оставило у героя только самые неприятные воспоминания. Установить подлинность данного факта теперь уже не представляется возможным. Очевидно, что изображение детства народного героя подобным образом было выгодно властям: во-первых, показывались негативные стороны дореволюционного уклада жизни, во-вторых, изображался персонаж, который, преодолев все трудности детства, становился ярым защитником советской власти. Но, тем не менее, до нашего времени дошли только эти источники, поэтому нам пришлось изучать детство В. И. Чапаева именно по ним. Вот версия, предлагаемая И. С. Кутяковым: Василий Иванович Чапаев родился 28 января 1887 года в деревне Будайки Чебоксарского уезда (ныне в Чувашии) в семье крестьянина. Отец Василия, Иван Степанович, принадлежал к самым бедным будайским крестьянам. Его земельный надел едва достигал двух десятин суглинистой земли, на которой нельзя было прокормить большую семью. А в семье кроме него самого, жены, отца, матери, было еще девять детей. Чапаевы не вылезали из нужды, которая еще более усиливалась в неурожайные годы. Таким был и 1897 год. Спасаясь от голодной смерти, Чапаевы решили уехать из родной Чувашии и переселиться на Волгу, в город Балаково, Самарской губернии. С переездом в Балаково детям пришлось бросить школу, которую они посещали в Будайке, и искать работу. Василий успел выучить только азбуку. Участник гражданской войны К. И. Пантелеев, живший в том же селе, что и семья Чапаевых в своих мемуарах описывает различные детские игры, упоминая и Василия Чапаева: «Вася Чапаев был не только организатором забав, но и справедливым судьей. Он не допускал ни малейшей фальши, несправедливости или отступления от установленных правил. Нарушителей немедленно выгонял из игры…» В 12 лет он был отдан отцом к купцу в «мальчики». Работал Василий Чапаев без платы, за кусок хлеба. Шустрый, веселый мальчик старательно выполнял всю поручаемую ему работу. Вскоре купец стал доверять ему разносить покупки именитым покупателям по домам, а затем поставил за прилавок. Чапаев начал торговать. С этого же дня хозяин приступил к «обучению», объяснив «великую заповедь» торгового дела: «не обманешь – не продашь». Но мальчик вдруг оказался непонятливым. Пряча глаза от хозяина, он отпускал покупателям товар полным весом. Купец сердился и постоянно наказывал его подзатыльниками. Убедившись в нежелании мальчика обвешивать покупателей ради его купеческих выгод, хозя-ин не только не назначил ему платы, но даже перестал выдавать одежду. Василию ничего не оставалось, как уйти. Вскоре он нанялся половым в одну харчевню-чайную. Хозяин чайной назначил ему оплату – 3 рубля в месяц. В чайной Василий работал он с раннего утра до 2-4 часов ночи. Домой не ходил: не хватало сил. В довершение всего хозяин требовал от служащих, чтобы они обсчитывали посетителей. Но Василий упорно отказывался воровать и через год владелец чайной уволил его. Чапаев вновь остался без работы. Кутяков пишет, что тогда в порыве отчаяния Чапаев решил наняться к одному старику-шарманщику, не раз предлагавшему Василию жизнь беззаботных бродяг. Около двух лет Чапаев скитался с шарманщиком, подпевая ему песни. Немало лишений и издевательств пришлось им перенести, но скитания по России имели и свою положительную сторону: они дали возможность познакомиться юному Чапаеву с жизнью русского крестьянина и рабочего, привыкнуть к самостоятельной, трудной и бездомной жизни. Но в других биографических источниках (Бирюлин В. «Народный полководец»; Чапаев А., Чапаева К., Володихин Я. «Очерк жизни, революционной и боевой деятельности» и др.) ни о каком шарманщике не упоминается. В 1905 году Василий неожиданно вернулся в Балаково. С этого времени Чапаев стал помогать отцу и старшим братьям – плотникам. Через пять лет, в 1910 году, Чапаева взяли в солдаты (однако в исследовании Чапаева, Чапаевой и Володихина говорится, что Чапаев поступил на действительную военную службу в ноябре 1908-го). К этому времени он уже был женат на мещанке из города Балакова Пелагее Захаровой. По окончании службы Чапаев опять взял в руки плотничий топор. Но в 1914 году, в первые же дни империалистической войны, он был призван в армию и отправлен на германский фронт в 1-ю армию генерала Ренненкампфа. В 1915 году, после ранения и лечения в лазарете, он получил отпуск и поехал навестить семью. Но в семье случился разлад и Чапаев вернулся на фронт еще до окончания отпуска. Неудачно сложившаяся семейная жизнь сильно отразилась на душевном состоянии В. И. Чапаева. Как вспоминают его соратники, он замкнулся в себе, стал необщительным. В этот же период у Чапаева пробуждается большой интерес к книгам. В конце 1916 года Василий Иванович получил свое последнее ранение и в звании подпрапорщика (по некоторым данным, в звании фельдфебеля), с тремя георгиевскими крестами и медалью, эвакуировался в один из госпиталей города Саратова, где лечился вплоть до Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. Возвращаясь к описанию детства Чапаева, стоит заметить, что не все авторы были согласны с вышеуказанной версией. После гибели Чапаева, в начале октября 1919 года, политическим отделом при Военно-Революционном Совете Туркестанского фронта в Самаре в виде отдельной листовки была выпущена статья Дмитрия Фурманова. Вот ее фрагменты: «Чапаев – сын артиста цыгана и дочери казанского губернатора, фамилию которой не помню. Когда девушка, губернаторская дочь, забеременела, цыган бросил ее и скрылся бесследно, губернатора в то время уже не было в живых. […] При родах губернаторская дочка умерла. Ее матушка губернаторша, не пожелав воспитывать „незаконного“ внука, отдала его на воспитание брату своего кучера. Старик взял малютку и воспитал его так же, как воспитывал и целую кучу собственных детей. Годов до девяти мальчишка бегал по улицам и пас свиней, потом стал пасти крупную скотину, а годов этак 11-12-ти ударился „в люди“. „…“ Чапаев рос, как все: ничего из ряда вон выходящего, ничего выпуклого и замечательного. Он рос посредственным, сереньким человеком. Ничего не выделяло его из круга обыкновенных, малозаметных людей…» Впоследствии данная статья послужила Фурманову материалом при составлении повести. Достоверна ли приведенная информация – неизвестно. Скорее всего, Фурманов слышал данный рассказ от самого Чапаева, который любил посетовать на свою судьбу и часто вспоминал: «Детство мое было мрачным, тяжелым. Много пришлось унижаться и голодать. С малых лет мыкался по чужим людям…» Конец 1917 – начало 1918 года. В «Боевом пути Чапаева» И. Кутяков рассказывает о том, что после Февральской революции под влиянием некоторых своих товарищей Чапаев присоединяется к группе саратовских анархистов-коммунистов. Но в этой же книге составитель примечаний Я. Володихин опровергает данный факт: «В.И.Чапаев к анархистам-коммунистам не примыкал. Еще до приезда в Николаевск он стоял на политической платформе большевиков. 28 сентября 1917 года Василий Иванович вступил в ряды ленинской партии». Между тем, решающие дни борьбы за власть уже приближались. В июле в Петрограде рабочие и солдаты вышли на улицу с требованием хлеба, земли, окончания войны и передачи всей власти Советам. А.Ф.Керенский разогнал демонстрацию и отдал приказ об аресте В.И.Ленина. Чапаеву, активно выступающему против власти А. Керенского, оставаться в Саратове было небезопасно. После недолгих размышлений он решил уехать в Николаевск (названный позднее Пугачевым). По приезде в Николаевск Чапаев вступил в партию большевиков. По желанию Чапаева Николаевский уездный комитет партии направил его в 138-й полк. Солдаты единогласно выбрали его командиром полка. Он часто выступал на солдатских и рабочих митингах с призывом бороться с белым движением. Вскоре в городе была установлена Советская власть. Белогвардейцы, не сумев восстановить свою власть в городе, перебросили военные силы в глухие села уезда. Они не оставили без внимания и солдат 138-го пехотного уездного полка. Полк становился все более малочисленным. Тогда Василий Иванович, являвшийся также военным комиссаром Николаевского гарни-зона, поставил перед уездным Советом народных комиссаров вопрос о демобилизации полка и создании отряда Красной гвардии из рабочих и батраков, бывших в этом полку, но на добровольных началах. Чапаев в течение нескольких суток создал отряд Красной гвардии численностью до 800 бойцов. На долю этого отряда и выпала задача подавления многочисленных белогвардейских восстаний в Николаевском уезде. За январь-февраль 1918 года отряд Чапаева двигался по территории Николаевского уезда, что способствовало подавлению восстаний зажиточных крестьян, недовольных приходом Советской власти, а так же воодушевлению сторонников большевиков, которыми являлись, в основном, беднейшая часть населения уезда. По призыву партии во всех селах и деревнях Николаевского уезда создавались отряды Красной гвардии. Чапаев вооружал их, назначал командиров и инструктировал красногвардейские отряды, как бороться с протестами зажиточных крестьян. Имя Чапаева стало необычайно популярным среди рабочих и трудящегося крестьянства Заволжья. Бои за Уральск. Многочисленные восстания в селах и городах Николаевского уезда носили преимущественно разрозненный характер. Это были первые выступления белогвардейцев, которые еще не успели полностью мобилизовать свои силы после революции. В Поволжье сигналом к организованной борьбе против Советской власти послужило контрреволюционное выступление уральского белого казачества. 29 марта 1918 г. офицеры белой армии и члены партии эсеров разогнали в Уральске областной Совет и арестовали его членов. Получив сообщение о разгоне Уральского Совета, Саратовский Совет послал вновь образованному Уральскому войсковому правительству ультиматум с требованиями: 1) признать власть Совета Народных Комиссаров верховной властью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики; 2) восстановить разогнанный Уральский Совет; 3)изгнать из Уральской области оставшихся помещиков. Уральское правительство отвергло ультиматум. С этого момента, т.е. с середины апреля 1918 года, на границе земель Уральского казачьего войска развертываются бои красногвардейских отрядов с офицерскими дружинами Уральского белого движения. К 20 апреля вооруженные силы Николаевского уезда сосредоточились в Николаевске. Здесь из них были сформированы два отряда под названием Николаевские красногвардейские численностью в 600 человек каждый. Один, под командой В.И.Чапаева, был составлен из отрядов Топоркова, Плясункова, Потапова и нескольких мелких групп. В другой, под командой Демидкина, вошли городские отряды Красной гвардии, рота бывших военнопленных австрийцев, отряд балаковских рабочих и отряды Баулина и Шевелева. 21 апреля Николаевские красногвардейские отряды выступили на станцию Алтата – к месту сосредоточения Особой армии. Чапаев двинулся походным маршем по маршруту хутор Бенардак – станция Алтата. К концу апреля 1918 года вся саратовская Особая армия сосредоточилась на станции Озинки. В свою очередь Уральское белое правительство подтянуло офи-церские части к пограничной станции Семиглавый Мар. 1 мая 1918 года красногвардейские отряды перешли в наступление на Семиглавый Мар и 2 мая заняли его без боя. Утром 3 мая Особая армия двинулась дальше, и на следующий день Чапаев занял станцию Деркул. Таким образом, части Особой армии находились всего в 70 километрах от Уральска, и казалось, что они быстро, без особых усилий займут этот город. Однако в ночь на 5 мая в по-ложении армии наступило резкое ухудшение. Казакам удалось захватить Семиглавый Мар, и в результате Особая армия оказалась отрезанной от Саратова. По всей линии железной дороги развернулись жестокие бои. Особенно сильный бой разгорелся с утра 9 мая у станции Шипово. Части Особой армии израсходовали все запасы патронов и снарядов, и поэтому командующий Загуменный отдал при-каз об отходе на станцию Алтата. На Чапаева была возложена задача прикрывать отход всей армии. Василий Иванович Чапаев активно участвовал в реорганизации красногвардейских отрядов. На совещании в селе Любицком он убедил присутствующих командиров в том, что мелкие отряды не сумеют победить врага, и предложил объединить их в батальоны и полки. В результате красногвардейские отряды И. Бубенца, И. Кутякова, Степанова, Чуркина и Киндюхина влились в отряд Чапаева, составив в целом 2-й полк, а отряды И. Плясункова, Рязанцева, Потапава и Баулина влились в отряд Топоркова, образовав 1-й полк. Каждый полк был разбит на три батальона. В свою очередь оба полка были объединены в бригаду. Командиром бригады был избран В.И.Чапаев, а бригада получила название Пугачевской. После того как Особая армия была переформирована и усилена новыми частями, было принято решение вытеснить белоказаков из пределов Самарской губернии и нанести им решительный удар. Обстановка в Поволжье к тому времени сильно осложнилась. Помимо уральского и оренбургского казачества против Советской власти в Поволжье выступил новый враг – чехословацкий корпус, который был сформирован из бывших военнопленных, захваченных еще до подписания Брестского мира. Подняв восстание, они захватили Сызрань, Самару и двинулись на Уфу. Выступление чехословаков оттянуло к себе силы Красной Армии и усилило активность белоуральской армии. Тем не менее, 24 июня командующий 4-й армией отдал приказ о наступлении на Уральск. Казаки упорно обороняли каждый хутор. С приближением Красной Армии к Уральску на помощь к казакам пришли сторонники Учредительного собрания и чехословаки. И в этот ответственный момент командующий 4-й армией Ржевский заболел (некоторые исследователи считают, что симулировал болезнь) и лег в лазарет. Армия осталась без командующего. После совещания командиров частей Василий Иванович Чапаев был назначен командующим армией. Сознавая всю ответственность задачи, за решение которой он взялся, Чапаев тщательно разработал план отхода и решительно стал проводить его в жизнь. Всю ночь 4-я армия без отдыха двигалась к станции Переметная. 12 июля 1918 года войска вышли из окружения противника, сумев нанести ему ощутимые потери. Разгром чехословацкого корпуса под Николаевском. В то время как 4-я армия воевала против белоказаков в уральских степях, чехословаки, заняв 8 июня 1918 года Самару, начали продвигаться не только на восток в направлении Оренбурга, Уфы и Челябинска, но и на юг в направлении Саратова и Николаевска. Бригаде Чапаева, вернувшейся 15 июля 1918 года из второго уральского похода в район Николаевска, измученной многодневными боями и тяжелыми походами, требовался длительный отдых для восстановления сил и возмещения понесенных потерь. Но с севера наступали чехословаки и «народная армия», подчинявшиеся Комучу (Комитету членов Учредительного собрания). С востока двигались полки уральских и оренбургских белоказаков. В создавшихся условиях Чапаев применяет преимущественно партизанские способы действия. Он даже проводит мобилизации для пополнения своих частей. 20 августа 1918 года легионы белой армии вступили в Николаевск. В городе начались грабеж советских учреждений, расстрелы коммунистов и советских служащих. Командир Самарской дивизии Захаров дал полкам Чапаевской бригады приказ двигаться для атаки Николаевска. По плану Чапаева полки должны были перейти к усиленным действиям. 1-й Пугачевский полк должен был захватить переправу через реку Большой Иргиз, а затем вместе с полком Степана Разина атаковать противника в селе Таволжанке. 21 августа Пугачевский полк под руководством Чапаева произвел организованную демонстрацию, оттянув на себя огонь и внимание противника, а затем перешел в лобовую атаку на основные силы противника. В результате ни один солдат противника не спасся. Несмотря на сильную усталость, бойцы продолжали усиленное движение вперед на Николаевск. В сборнике документов приведено донесение командующего 4 армией Ржевского о том, что уже 21 августа противник оставил г. Николаевск . Уничтожение полка противника, захваченного в пути, завершило разгром врага. «Народная армия» и белочешский корпус, занимавшие Николаевск, оставили город, а бригада Чапаева с небольшим боем заняла Николаевск, переименованный по предложению Чапаева в Пугачев. Борьба с армией самарского Учредительного собрания. В течение августа и в начале сентября 1918 года общая обстановка на фронте 4-й армии осложнилась. Армия самарского Учредительного собрания, сосредоточив в себе большие силы, уверенно двигалась вниз по Волге, в направлении на Саратов. Чапаев решил дать генеральное сражение белым войскам, но так как имеющихся сил было недостаточно, он обратился за помощью к рабочим города Пугачева. Была проведена мобилизация рабочих и создан план разгрома. 4-й пехотный полк, т.е. одну пятую своих сил, Чапаев оставил для демонстрации атаки главных сил армии самарского Учредительного собрания с фронта, а четыре пятых своих войск сосредоточил на левом фланге армии противника для решающего удара во фланг и тыл врага. Ночью главные силы В. Чапаева скрытно от врага заняли исходное положение для атаки в пяти километрах от Орловки. 4-й пехотный полк открыл огонь по селу Ливенки, и это послужило сигналом для главных сил Чапаева начать наступление на Орловку. Чапаев лично вел в атаку то пехоту, то конницу. Белогвардейцы не выдержали натиска и начали отступать на Ливенку. Далее И. С. Кутяков пишет, что 9 сентября 1918 года (по документам – 10 сентября) в 20 часов 30 минут Чапаев доносил с поля боя командующему 4-й армии об этом сражении: «Бой под Орловкой и Ливенкой закончился полным разгромом врага». Победа под Орловкой резко изменила положение не только на левом, но и на правом берегу Волги. Армия самарского Учредительного собрания, действовавшая на саратовском направлении, с поражением своих соседей на левом берегу Волги в районе Ливенки прекратила наступление. Бой под Таловой С 4 по 20 сентября В. И. Чапаев временно был начдивом 1-й Николаевской дивизии. Затем он принимает вновь сформированную 2-ю Николаевскую дивизию, которой бессменно командовал до дня отъезда в Академию Генштаба, т. е. до но-ября 1918 года. По прибытии в Николаевскую дивизию, расположенную восточнее Пугачева, Чапаев развернул кипучую деятельность. Он проверил состояние полков, их вооружение, провел совещание с начальствующим составом. И в результате к 25 сентября 1918 года, к началу наступления 4-й армии на Самару, боеспособность дивизии поднялась настолько, что она смогла провести очень ответственную операцию. При наступлении на Самару перед дивизией Чапаева была поставлена задача: прикрыть тыл и правый фланг всей 4-й армии от уральских казаков, причем Чапаеву было приказано не просто обороняться со своими двумя полками, а наступать на Уральск. Начались кровопролитные бои. Дивизия Чапаева все время находилась в окружении огромных конных масс казаков. Несмотря на это, Чапаев неуклонно двигался вперед и занял деревню Таловую в двух переходах от Уральска. В ночь с 12 на 13 октября 1918 года главные силы Уральской казачьей армии под командованием генерала Мартынова окружили дивизию Чапаева в районе деревни Таловой. В состав группы войск Мартынова входило 3600 штыков, 1200 сабель при 77 пу-леметах. С утра 13 октября казаки под прикрытием сильного артиллерийского и пулеметного огня провели наступательную операцию с двух сторон четырьмя конными полками. Пензенский и Балашовский полки стойко отразили нападение благодаря прикрытию Гарибальдийского кавалерийского полка, занимавшего возвышенность у хутора Каневского и прикрывавшего левый фланг Пензенского полка. Но с прибытием подкрепления огонь противника усилился. К вечеру казаки заняли ближайший хутор и оттуда начали простреливать весь тыл Балашовского полка, полк начал отступать. К 15 октября чапаевские части израсходовали почти все патроны и снаряды, а полевая радиостанция, упорно старавшаяся связаться со штабом армии, никакого ответа не получала. Как вспоминали очевидцы, в дивизии царили голод и тяжелый моральный упадок бойцов. В довершение всего противник в ночь на 17 октября открыл сильный артиллерийский огонь по деревне Таловой, где находились батареи и обозы. От зажигательных снарядов в деревне начался сильный пожар. Кутяков пишет, что к рассвету над деревней висела удушливая гарь, а улицы и дворы были завалены трупами обозников и поломанными повозками. Чапаев принял наконец решение об отходе на Пугачев. По приказу Чапаева основная за-дача по прорыву была возложена на кавалерийский полк, возглавляемый командиром Бубенцом. На поддержку конницы выступил Пензенский полк, за ним продвигался Балашовский. Остатки дивизии, с большим трудом отбиваясь от казаков, постепенно выбирались из вражеского окружения. В конечном итоге, благодаря умелому руководству боем, чапаевской дивизии удалось, хотя и с большими потерями, прорваться к Пугачеву. Чапаев в Академии Генерального штаба. В ноябре 1918 года штаб 4-й армии направил Чапаева в Академию Генерального штаба в Москву, куда он поехал неохотно. Чапаев считал быть обязанным там, где бушевал пожар гражданской войны. Его тяготила и атмосфера, господствующая в то время в Академии, и он начал настойчиво добиваться откомандирования на фронт. У Д. Фурманова можно найти намеки на то, что Чапаев не любил и порой даже отрицал науки, учебу: «Учиться? Да-да! А чему они-то научат? Чему? – горячо возразил Чапаев…» . Аналогично думал и Иван Семенович Кутяков: «Для Чапаева такая учеба была почти бесцельным времяпрепровождением» . Но Ф.Новицкий в статье, посвященной 10-летию со дня гибели В.И.Чапаева опровергает это мнение: «Многие склонны считать, что Чапаев не любил науки и пренебрежительно относился вообще к учению <…> Это глубоко неверно. Чапаев, как редко кто, отличался необычайной усидчивостью и упорством в деле познания всего того, что от него потребуется…» . Любил или не любил Чапаев науки, теперь уже выяснить вряд ли возможно, стоит лишь отметить, что приказы, отчеты и даже статьи, написанные Чапаевым (они опубликованы в различных сборниках документов), составлены грамотно, по всем правилам русского языка. В любом случае, долго находиться в Академии Генерального штаба Чапаев не захотел, и в начале февраля 1919 года ему удалось получить разрешение отбыть на Восточный фронт, опять в 4-ю армию, которой в то время командовал Михаил Васильевич Фрунзе. В середине февраля 1919 года Чапаев прибыл в Самару, в штаб 4-й армии. М.В.Фрунзе назначил его командиром Александрово-Гайской бригады, а комиссаром к нему – Фурманова. Фрунзе поставил перед Чапаевым задачу овладеть районом станицы Сломи-хинской, после чего продолжать наступление на Лбищенск, с тем, чтобы угрожать с тыла главным силам противника. Получив эту задачу, Чапаев решил заехать в Уральск, чтобы лично договориться о ее выполнении. 27 февраля Чапаев выехал из Уральска в Александров Гай через Новоузенск. По прибытии к месту расположения бригады Василий Иванович посетил все полки и батальоны, ознакомился с командным составом, провел ряд совещаний. Бойцы бригады хорошо знали Чапаева, так как многие из них принимали участие в походах на Уральск. Приезд Чапаева вселил в них уверенность в победе. 15 марта 1919 года бригада перешла в наступление и одним ударом 16 марта заняла станицу Сломихинскую, где был расположен штаб полковника Бородина, и отбросила его части на Чижинские озера. Взятие станицы Сломихинской оказало пагубное действие на противника. Уральская казачья армия начала разлагаться. Победы, одержанные 4-й армией под руководством М.В.Фрунзе, деморализовали даже самых стойких из противников. На сторону Красной Армии стали переходить целые полки. Борьба против армии Колчака. Наступление войск белого генерала А. В. Колчака продолжалось. Он двинулся широким фронтом на Пермь, Казань и Самару. Потеряна была Уфа, под ударом находились Самара и другие волжские города. Колчак явно нацеливался на Москву. На колчаковский фронт спешно перебрасывались рабочие полки. Когда М.В.Фрунзе принял командование 4-й армией, 25-й Самарской дивизии уже не существовало. Ее расформировали 24 января 1919 года. В этот момент М.В.Фрунзе решил воссоздать 25-ю дивизию, так хорошо зарекомендовавшую себя в боях с белоказачеством, войсками Самарского Учредительного собрания и Чехословацкого корпуса. Во главе дивизии М.В.Фрунзе поставил Василия Ивановича Чапаева. В начале апреля 1919 года М.В.Фрунзе приказал 25-й дивизии сняться с Уральского казачьего фронта и на подводах переброситься в район Бузулука – станция Кинель для разгрома наступающих войск Колчака, в частности западной армии генерала Ханжина. Именно здесь были упорные кровопролитные бои, завершившиеся освобождением Уфы и разгромом Колчака. За три дня боя были уничтожены две дивизии Колчака, составлявшие 6-й корпус. В результате этих боев чапаевцы прорвали фронт Колчака на 80 километров. М.В.Фрунзе направил в прорыв основные силы своей ударной группы. Все три бригады Чапаева ввязались в упорные бои в районе Бугуруслана с 1-м Уфимским корпусом князя Голи-цына, которые продолжались с 1 по 5 мая. 25-я Чапаевская дивизия уничтожила и этот корпус. Командующий ударной армией Колчака генерал Ханжин решил вырвать инициативу у красных и перейти в контрнаступление. 8 мая 1919 года произошло встречное сражение. 25-я дивизия не только отразила контрнаступление 2-го корпуса генерала Войцеховского, но целиком уничтожила Ижевскую бригаду под Татарским Кандызом, взяла более тысячи белых в плен и захватила 4 орудия. В тот же день Фрунзе и Куйбышев прибыли на поле сражения и отдали приказ, в котором благодарили 25-ю Чапаевскую дивизию, а командиры полков и батальонов 73-й бригады были награждены орденами Красного Знамени. Чапаев продолжал энергично преследовать противника, и 17 мая был занят Белебей. 30 мая 73-я бригада налетом взяла узловую станцию Чишмы. Остатки ударной армии генерала Ханжина отошли за реку Белую, в район Уфы. 6 июня М.В.Фрунзе приехал в штаб 25-й дивизии. После его приезда было созвано совещание командиров полков и бригад. Фрунзе поставил перед 25-й дивизией задачу взять Уфу, выделив для этого ударную группу под командованием Кутякова. В ночь на 7 июня 25-я дивизия приступила к форсированию реки Белой. Чапаевцы медленно продвигались вперед. Но в 3 часа дня противник крупными силами перешел в контрнаступление. Контратака противника была отбита, и в 4 часа дня красные части перешли в наступление по всему фронту. Противник решил предупредить наше наступление и ночью подтянул к деревне Турбе силы – отборные офицерские ударные батальоны, с тем, чтобы опрокинуть чапаевские полки в реку Белую. 9 июня ранним утром на огромном поле перед расположением Пугачевского полка показались ударные офицерские батальоны. Они шли тихо, без лязга оружия и было ясно, что надеялись захватить красных бойцов сонными и переколоть, перестрелять их в окопах. Но окопов достичь им не удалось. Чапаевцы подпустили колчаковцев вплотную и разом, по команде, открыли уничтожающий пулеметный огонь, как вспоминали очевидцы, буквально скосив вместе с рожью офицерские батальоны. Через три часа после начала атаки бой кончился. В тот же день чапаевцы заняли Уфу. Остатки армии Колчака покатились через Уральский хребет к берегам Тобола и Иртыша. За блестящее руководство героической дивизией М.В.Фрунзе представил Чапаева к награждению орденом Красного Знамени. Освобождение Уральска чапаевской дивизией. В марте 1919 года, после взятия Чапаевской дивизией Уральска, Лбищенска и станицы Сломихинской, белоуральской армии был нанесен смертельный удар. Казаки стали сдаваться в плен целыми полками. Власть в Уральской области принадлежала казачьему войсковому съезду, председателем которого был эсер Кирпичников. Казачьему войсковому съезду противостояла казачья группа, руководимая генералом Толстовым. Он разогнал войсковой съезд и расстрелял Кирпичникова и вместе с ним еще несколько эсеров. В 1919 году на Уральском фронте против Толстова осталась 22-я стрелковая Краснодарская дивизия. Захватив власть, Толстов начал быстро готовиться к наступлению на Лбищенск и Уральск. В результате группа казаков захватила форпост Горячинский и подошли вплотную к Лбищенску. После упорного восьмичасового боя, уничтожив почти всю 64-ю бригаду, казаки захватили Лбищенск. Растерявшийся начальник 22-й дивизии эсер Сапожков уже на следующий день, 16 апреля, отдал приказ об отходе всех частей на Уральск. 24 апреля 1919 года после ряда упорных боев главные силы 22-й дивизии Сапожкова вошли в Уральск, взорвав мост через реку Деркул. С этого времени 22-я дивизия осаждается в Уральске казачьей армией Толстова. Учитывая серьезность положения на Уральском фронте, командующий вновь образованного Туркестанского фронта М.В.Фрунзе направляет 25-ю дивизию, снятую с Восточного фронта, в район Бузулука для освобождения Уральска. М.В.Фрунзе поставил перед дивизией задачу – не позже 12 июля 1919 года освободить Уральск. Для этого он подчинил дополнительно командиру 25-й дивизии Особую коммунистическую бригаду под начальством Плясункова. 25-я дивизия немедленно приступила к выполнению своей задачи. Перед участком 25-й дивизии находился 2-й уральский конный корпус белых генерала Савельева. Этот корпус, проиграв бой у Большой Черниговки, начал спешно отходить к югу, а чтобы замедлить продвижение Чапаевской дивизии, противник поджег ковыльные степи. Чапаевские части двигались вслед за огнем по голой степи, среди дыма и гари, нависших густыми черными клубами над хуторами и станицами. 11 июля в 7 часов утра 73-й и 74-й кавалерийские дивизионы соединились у хутора Новенького с 1-м батальоном 194-го стрелкового полка осажденного гарнизона Уральска. В тот же день Василий Иванович Чапаев с Фурмановым прибыли на автомобиле из Самары в Уральск. Встреча Чапаева с бойцами 22-й Краснодарской дивизии и жителями Уральска была потрясающей. Они праздновали избавление от осады, восторженно принимая Красную Армию. Гибель В.И.Чапаева. Потерпев поражение под Уральском, казачья армия Толстова отступила на юг. Штаб генерала Толстова расположился в самом Лбищенске. 25-я Чапаевская дивизия по приказанию командующего 4-й армией Авксентьевского должна была продолжать преследование противника, с тем, чтобы занять Лбищенск и Джамбейтинскую ставку. С 15 по 25 июля в районе Усихи между чапаевскими частями и белоуральской армией шли жестокие бои. Через 15 суток, преодолев все препятствия на своем пути, терпя жажду и лишения, ощущая недостаток в огнеприпасах, чапаевцы заняли не только Лбищенск, но и станицу Сахарную, пройдя путь свыше 200 километров. Белоуральская казачья армия стала отступать на юг, останавливаясь в каждом хуторе. Белые генералы создавали планы «массовых конных атак», а затем развернули энергичную подготовку налета на Лбищенск, где были расположены база и штаб Чапаева. Необходимо указать, что по мере движения в глубь уральских степей положе-ние 25-й дивизии с каждым днем ухудшалось. Это объясняется тем, что войска Чапаева были отрезаны более чем на 200 километров от своей базы – Уральска. Трудность подвоза вызывала постоянные перебои в снабжении частей огнеприпасами и продовольствием. Между тем, армия генерала Толстова при отходе на юг, к берегам Каспийского моря, сумела получить от англичан не только обмундирование, снаряжение и боеприпасы, но даже артиллерию, самолеты и бронеавтомобили. Но самый главный недостаток красных в то время заключался в невыгодной группировке войск. В частности, линия фронта, занимаемая группой Аксенова, отстала на 100 километров от общей линии фронта. Это ставило все пути, связывающие базу и штаб Чапаева, расположенные в Лбищенске, под удары казаков с бухарской стороны. Когда резервная группа Бубенца переправилась на левый берег реки Урала и двинулась на Джамбейтинскую ставку, стратегическое положение войск Чапаева еще более ухудшилось. Против главных сил армии генерала Толстова в районе станицы Сахарной и Каршинского осталась лишь одна группа Кутякова. При таком положении не исключена была возможность занятия силами белых даже Уральска. В таком же тяжелом положении находились войска Чапаева и на бухарской стороне. Группа Бубенца, двигавшаяся от Урала на Джамбейтинскую ставку по пустынной местности, и группа войск Аксенова, расположенная на 60-и километровом фронте к северо-востоку от озера Чархал, не имевшие связи ни с группой Кутякова, ни между собой, легко могли быть разбиты конным корпусом генерала Акутина. К тому же между всеми тремя группами войск Чапаева в отдельных случаях образовались промежутки шириной до 100 километров. Войска Чапаева во время движения на юг понесли немалые потери. В сентябре 1919 года на фронте было затишье. 4 сентября В. И. Чапаев и военком Батурин посетили в станице Сахарной 1-ю бригаду 50-й стрелковой дивизии, которая уже трое суток не получала хлеба. В то время как Чапаев находился в 1-й бригаде, белоказаки подошли к урочищу Кузда-Гора, в 25 километрах к западу от Лбищенска, и укрылись в густых камышах, покрывавших долину. Здесь они стали ожидать наступления темноты, чтобы под покровом ночи захватить Лбищенск и разгромить штаб Чапаева, охра-няемый лишь одной дивизионной школой Чекова силой в 600 штыков. Следует отметить, что штаб дивизии не имел продуманного плана обороны Лбищенска на случай внезапного налета противника. Ночью на окраине города выставлялись только заставы и между ними не было телефонной связи. Внутри города охрану несли отдельные пешие патрули. Около часа ночи кавалерийский корпус генерала Сладкова подошел к самому Лбищенску, 6-я кавалерийская дивизия полковника Бородина наносила удар с запада и севера, а 2-я кавалерийская дивизия – с юга. Казаки, используя недостаточную охрану города, сумели незаметно отдельными сотнями пройти в Лбищенск. Они начали одновременно атаковать красные заставы, находившиеся на окраине города. Вскоре бой охватил и весь город. При первых же выстрелах защитники Лбищенска бросились к штабу на соборную площадь. Стараясь укрыться от огня противника, они занимали отдельные строения, дома. В это же время Чапаев, окруженный кучкой личного конвоя, вел жестокий бой с казаками. Василий Иванович был уже ранен в руку, но все же оставался в строю и руководил огнем. Однако силы были неравны, и под натиском численно превосходящего противника защитники вынуждены были отойти. Начались пожары. Но исследователь С. Балмасов в своей статье «Тайна гибели Чапая: последний бой» опровергает приведенные выше факты, он пишет о том, что Красная Армия в районе Лбищенска сосредоточила огромные силы: «Красные имели 75 орудий и неограниченный запас снарядов, постоянно подвозившихся по железной дороге через Саратов и Самару. Казаки же на каждые 10 выстрелов красных в летних боях под Уральском могли отвечать 1-2 снарядами» . Но казачья разведка сумела добыть информацию о планах наступления на Уральском фронте, и, невзирая на эпидемию тифа, на недостаток вооружения, обмундирования, медикаментов и даже командного состава, белоказачьи полки смогли атаковать Лбищенскую станицу и заставить отступать 25-ю стрелковую дивизию и всю группу, наступающую с севера на юг, во главе которой так же стоял Чапаев. И. Кутяков же, конечно, и не упоминает о преимуществах Красной Армии, даже наоборот, по его версии большевики находились в крайне невыгодном положении. Он пишет о том, что с рассветом казаки пустили в ход артиллерию. Через час Лбищенск был уже в руках казаков. С восходом солнца чапаевцы небольшими разрозненными группами стали пробиваться к реке Уралу, чтобы вплавь перебраться на другой берег. Но белые подтянули к реке пулеметы и артиллерию. Ча-паевцы стали бросаться в воду, но в волнах их ожидала смерть от казачьих пуль. Сам Чапаев, истекая кровью, почти терял сознание. Тогда ординарцы штаба во главе с Петром Исаевым потащили его к берегу Урала и под убийственным огнем белых опустили в бурную реку. Василий Иванович под ливнем вражеских пуль все же нашел силы добраться до середины реки. Но тут пуля нанесла ему второе ранение в голову и остановила жизнь командира 25-й стрелковой дивизии Василия Ивановича Чапаева. Но существуют и другие версии гибели Чапаева. Некоторые исследователи предполагают, что Чапаев выплыл на берег и скончался от полученных ран, некоторые считают, что он не успел добраться до Урала, но так как ни останки Чапаева, ни его могила найдены не были, вероятнее всего, что он действительно утонул в водах реки Урал. Противоречивыми являются не только точки зрения ученых, но даже воспоминания очевидцев зачастую не сходятся. Не подлежит сомнению то, что Чапаева в последние минуты его жизни пытались спасти. Но кто именно был рядом с В.И.Чапаевым в момент его гибели? В одних записях, как у Кутякова, указывается на Петра Исаева с ординарцами, в других – на группу курсантов Чекова, в третьих – на венгров–интернационалистов… Как выяснилось, в различных источниках биография Чапаева описывается поразному. И даже в Большой Советской энциклопедии в разных изданиях факты преподносятся в соответствии с идеологическими мотивами того или иного времени. Удивительно то, что меняется не только мнение о Чапаеве, но даже даты порой не совпадают: в БСЭ под редакцией О.Ю.Шмидта (издание 1934 года) говорится о том, что Чапаев являлся членом партии с июля 1917 года; во втором издании БСЭ (ред. Б.А.Введенский, 1957 год ) написано, что Василий Иванович Чапаев вступил в коммунистическую партию в 1918 году; в последнем издании БСЭ (ред. А.М.Прохоров, 1978 год) упоминается третья дата этого события – сентябрь 1917. Подобные неточности можно найти во многих фактах, дата вступления Чапаева в партию большевиков – всего лишь один из многочисленных примеров. Это еще раз доказывает, что биография Чапаева на протяжении многих лет деформировалась под давлением властей, обрабатывалась авторами и исследователями, обрастала мифами, что отдаляло ее от истины и увеличивало количество разных ее интерпретаций, поэтому на сегодняшний день мы не можем точно определить, где правдивые, достоверные факты, а где вымысел и миф. Иначе говоря, мы уже не можем увидеть подлинную личность В. И. Чапаева. III. Формирование мифа о В. И. Чапаеве История художественного образа этого героя Гражданской войны представляет собой сложную, неоднородную, изменяющуюся вереницу, которая постепенно превратила В. И . Чапаева в легенду, миф. Но для более пристального рассмотрения процесса мифологизации, нужно вначале взглянуть на такую сложную проблему, как механизм возникновения советских мифов в целом. Известно, что реальные исторические события и трактовка исторических событий государством несколько отличаются от реальных. Отличие всегда определяется теми идеологическими задачами, которые стоят перед государством (укрепление государственной власти, обоснование существующей политической системы, воспитание подрастающего поколения и т.д.) В годы советской власти государство создавало собственную официальную идеологию и официальную историю, которая вполне может трактоваться как миф, так как отвечает практическим целям, претендует на концептирование окружающей действительности, исключает неразрешимые проблемы. Ж. Сорель говорил: «Революционный миф – плод воображения и воли, который имеет те же корни, что и любая религия, поддержиающая определенный моральный тонус и жизнестойкость масс». Таким образом, в политическом мифе трансформировалась история в соответствии со значимыми социальными и политическими задачами. Затем происходит освоение политического мифа культурой определенной эпохи, что приводит к возникновению художественного воплощения мифа, так как и литература, и кино, и сценическое искусство – средства воздействия на общественное сознание. Появляются типические герои, образы реальных исторических лиц идеализируются, приближаются к некоторому «героическому» типу. Таков образ народного героя Чапаева в одноименном романе Д. Фурманова: «Отметая все мелкое, ненужное, второстепенное, Дмитрий Фурманов отобрал лишь основное и обязательное, что делало образ Чапаева типическим и сохраняло в нем в то же время человеческие качества, присущие только одному Чапаеву» Через литературу и кино политический миф становится достоянием культуры. Создается новая мифология в массовом сознании. В качестве мифологических героев выступают знаковые фигуры в истории политического государства, важные для государственной истории и идеологии. Такой знаковой фигурой становится в начале 20 века В.И. Чапаев, его биография обрастает «житийными» чертами, описывая путь от выходца из семьи батрака до народного заступника. Причем, как ни странно, те, кто создавали этот миф, практически даже не скрывали поставленных перед собой задач, например, в заметках к постановке братья Васильевы писали: «Необходимо было, поднимая до легендарности образ Чапаева, заставить зрителя ему верить как человеку, который может послужить примером, которому он, зритель, должен захотеть подражать». Вплоть до 1940 года миф о Чапаеве не теряет своей актуальности – происходит установление и упрочнение Советской власти, которой требуется пример для воспитания патриотических чувств, образец социалистического мышления и самоотречения во благо социалистической республики, устойчиво противостоящий образу буржуазного врага. В предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны миф о Чапаеве развивается еще сильней. Образ Чапаева в народных преданиях часто приобретает былинные черты: Чапаев предстает персонажем, которого «смерть не берет» и который беспощадно расправляется с врагом. Здесь опять Чапаев служит примером для подражания, но уже не только в верности к идеям социализма, но и в умении бороться с врагом, ненавидеть его. После падения советского режима, когда внешняя и внутренняя политическая система изменилась, и факты, касающиеся тоталитаризма в Советском Союзе, стали достоянием общественности, начинается процесс демифилогизации образа В. И. Чапаева. В результате несовпадения реального и идеологического окружения, ослабление государственной идеи и наличия явных противоречий внутри политической и мифологической картины мира, происходит и изменение общественного сознания, поэтому миф подвергается трансформации. Возникают злободневные анекдоты о Чапаеве. Герой сохраняет имя, антураж, но, с другой стороны, становится выразителем национального характера в негативном смысле этого слова, оставаясь при этом символом определенной эпохи. Большинство анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве построены по принципу вопросаответа, диалога между Чапаевым и его ординарцем Петькой. Нередко героями анекдота становятся также другие персонажи повести Фурманова (даже сам автор) и фильма Ва-сильевых. Типаж начальника–подчиненного или учителя–ученика как символов советской эпохи в контексте современной истории служит возникновению комического; анекдотическая ситуация рождается на стыке двух исторических пластов. Таким образом, старый способ мышления теперь вызывает непонимание, и поэтому – иронию. В конце ХХ века общество изменяет свои взгляды как на исторические события, так и на мифы, с ними связанные. Можно перечислить много причин, приведших к этому, но мы выделили две, на наш взгляд, основные: – распад СССР, утрата опор типового общественного сознания и необходимость новых ориентиров; – утрата доверия к позитивной мифологии и любым идеологическим движениям (ввиду их дискредитации). IV. Анализ повести Фурманова. В 1923 году появилась книга Д. Фурманова «Чапаев». Талантливый писатель, лично знавший Чапаева, воевавший с ним бок о бок и оказавший на него большое воспитательное воздействие, создал образ славного комдива во всей полноте и оригинальности. Он постарался представить его в различных ракурсах: и со стороны блестящего боевого подвига, и в суровых буднях гражданской войны. Чапаев Д. А. Фурманова отличается от Чапаева – героя народных сказов. Это отличие заключается прежде всего в том, что Фурманов вывел в повести народного героя не изолированно, а в тесном общении с обычными, неизвестными красноармейцами. Образ легендарного командира не заслоняет значения красноармейской массы. Писатель сумел избежать той однородности в обрисовке Чапаева, которая характерна для многих сказов. Безызвестные авторы рисуют Чапаева чаще всего только крупным планом, мало уделяют внимания роли и значению его соратников и в некоторых случаях, естественно, впадают в преувеличение, отступают от реализма. На первый взгляд может показаться, что Фурманов создавал образ Чапаева только на основе тех сведений и впечатлений, которые он получил во время полугодового общения с прославленным командиром 25-ой дивизии. Но это не верно. Фурманов широко использовал и бытовавшие в ту пору сказы. Например, он приводит в повести несколько сказов, которые Клычков (так Д. Фурманов называет себя в повести) слышал еще до знакомства с Чапаевым от извозчика Гриши, а также некоторые рассказы в передаче самого Чапаева. Как писала американская исследовательница К. Кларк, «Чапаев» потенциально является интересным образцом соцреалистической прозы с точки зрения анализа того, как «что было» соотносится с тем, «что должно было быть». Фурманов считал свою книгу скорее вкладом в партийную историю, чем в литературу, но окончательной ролью этой книги стала роль Образца для советской литературы . В повести Чапаев и Клычков представляются нам как два типа командиров. Клычков – это образованный профессиональный революционер, основательный, квалифицированный руководитель, менее энергичный, чем Чапаев, но явно более сознательный и в конечном итоге более эффективный. Чапаев – личность по ряду качеств контрастная: он стихиен, склонен к бунтарству, этакий крестьянский вожак, которого мало интересуют идеология и политика . Он является членом партии, но его мировоззрение не устойчиво, как командир он склонен к порывистости, неким проявлениям анархизма, как оратор он алогичен, умеет говорить только «от сердца». Чапаев смел, дерзок и любим подчиненными, тогда как Клычков, менее заметный и менее популярный, является лучшим администратором. На протяжении всей книги Клычков размышляет о силе и слабости Чапаева как типа «стихийного» героя. С точки зрения Клычкова, Чапаеву опасно доверять власть, потому что его стихийность может повернуть куда угодно . Комиссар приходит к выводу, что слава Чапаева, колоссальная сила его воздействия делает его духовным заложником собственной популярности . Клычков начинает просвещение Чапаева с мягких дружеских разговоров о политике и вскоре понимает, что «зерно падает на подготовленную почву» . Сюжет «Чапаева» построен на том, как стихийный и непредсказуемый командир обретает сознательность под руководством и контролем сознательного учителя. Но в то же время ученик (Чапаев) превосходит учителя (Клычкова) и в отваге, и в военном искусстве. В годы Гражданской войны среди части красноармейцев и в группах крестьян были еще живы наивные представления о том, как герой Чапаев один, самолично расправляется с врагами. Такие преувеличенные рассказы Фурманов называет молвой, слухами, легендами, которые могут служить лишь материалом, подлежащим критике и творческой переработке. Фурманов показал Чапаева в росте, в развитии, народные же сказы рисуют статический образ героя, дают ему лишь итоговую оценку. Как мы уже говорили, Фурманов не идеализирует своего героя, несмотря на то, что «Чапаев», как и другая литература того времени, имел в первую очередь не художественный, а агитационный смысл. Основная цель книги – пропаганда советской идеологии. Так зачем же тогда автор изображает и негативные стороны героя, такие как грубость или неграмотность? – Возможно для того, чтобы сделать Чапаева более правдоподобным, достоверным, а возможно – чтобы приблизить тем самым его к народу. Что касается достоверности, в дневниках Фурманова сохранились записи, в которых он размышляет о мучившем его во время написания повести противоречии между вымыслом и реальными событиями. Он хотел, чтобы его герои были «как настоящие», а не «выдуманные». В то же время он отрекался от «фотографизма», пытаясь найти наиболее точные детали, проводя отбор для «более глубокого, более выношенного» выражения желаемого . Роман Фурманова послужил основой для многих других художественных произведений социалистического реализма, а также для исторических очерков и даже для масштабных биографических работ о Чапаеве. Многие эпизоды неоднократно дублировались. Как наглядный пример можно привести один и тот же случай из жизни Чапаева, интерпретированный в разных книгах по-разному. По Фурманову, Чапаев рассказывает Клычкову (Фурманову) о том, как в академии он однажды чуть не поругался с профессором: -Знаешь, — говорит, — Рейн-реку? А я всю германскую воевал, как же мне не знать! Только подумал: Да што, мол, я ему отвечать стану? -Нет, дескать, не знаю, а сам-то ты, — говорю, — знаешь Солянку-реку? Он вытаращил глаза — не ждал этого, да: -Нет, говорит, — не знаю, — а што? -Значит, и спрашивать нечего… А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил… Што мне твой Рейн-то, на кой он черт, а на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому што мы с казаками воюем тут! Точно такая же ситуация описывается в пьесе А. Фурмановой и С. Лунина, но только Чапаев беседует не с Фурмановым, а с Фрунзе, рассказывая о курьезе с «лысым профессором»: -А вы, — говорю, — реку Славянку знаете? Он и глаза вытаращил. -Нет, — говорит, — не знаю! -Ну и спрашивать нечего, — говорю… Что мне его Рейн? На кой леший? Драться-то на разных Солянках придется. В книге «Боевой путь Чапаева» И. С. Кутяков тоже описывает очень похожий эпизод, но здесь Чапаев разговаривает уже с боевыми товарищами, и вопрос профессора изменен: «Скажите, слушатель, какое стратегическое значение имеет река Неман?» — «А вы, профессор, скажите мне, какое оперативное значение имеет река Солянка?» — спросил его Чапаев. Профессор усмехнулся: «Такой реки нет. Я преподавал географию еще в старой николаевской академии и вашей Солянки нигде не встречал». И он опять повторил свой вопрос. Тогда Василий Иванович ответил, что реку Неман он знает, так как на ней был ранен и несколько раз контужен в мировую войну, а на реке Солянке, которая протекает на границе земли Уральского казачьего войска, он весь 1918 год вел бои с казаками, и она имеет громадное оперативное значение в борьбе с уральским казачеством. Понятно, что речь в данных фрагментах идет об одном и том же случае, но либо каждый автор интерпретировал по-своему, либо сам Чапаев по-разному рассказывал этот эпизод своей жизни. И несмотря на то, что ни в одном из приведенных отрывков не описывается сам Чапаев, заметно, что каждый автор его воспринимает в своем ракурсе: в одном случае, Чапаев – невежа, называет профессора на «ты», употребляет слова «што», «черт», а в другом – Чапаев задает умные сложные, правильно сформулированные вопросы об «оперативном значении реки». Необходимо отметить, что роман Д. А. Фурманова «Чапаев» является четким, ярким представителем социалистического реализма со всеми свойственными данному направлению чертами: относительной реалистичностью, но в то же время преувеличением в описании героизма людей, верных партии, отсутствием всякой лиричности и сентиментальности, неразвитостью художественно-выразительных средств в тексте. Известный большевик, нарком просвещения А. В. Луначарский писал: «“Чапаев“ написан в сущности без расчета на чистую художественность. Это – необыкновенно живые записи о виденном, пережитом и сделанном, записи отзывчивого, умного, энергичного комиссара, частью набро-санные, можно сказать, в самом пылу боев». V. Развитие образа Чапаева в советские годы Говоря о развитии образа Чапаева, нельзя не упомянуть о детской литературе. К сугубо детским авторам, писавшим о подвигах комдива относятся А.Кононов, В.Разумневич, В.Лифшиц и многие другие. Естественно, в произведениях данных писателей можно найти много похожего: это и сам образ «Чапая» (самоотверженный, смелый, справедливый во всем, любящий детей, всегда в красивом мундире и на быстром, как ветер, коне), и призыв к детям стараться быть похожими на своего героя, и манера изложения, стиль речи писателей. Для примера того, каким представал Чапаев в различных произведениях для детей мы приведем фрагмент из рассказа «Ночной разговор» А.Кононова: «Любят и уважают его бойцы. Да и не только бойцы, а крестьяне, все население. Поговорит крестьянин с Василием Ивановичем и сразу увидит, поверит: побьет Чапаев белогвардейцев! Выступит Чапаев с речью – все кругом затихнет. Как будто и обыкновенные простые слова говорит, а слушают его так, что боятся дышать громко. Любит народ своего героя» . Даже в таком коротком отрывке дважды повторяется мысль о любви к «своему герою». Это сделано из-за того, чтобы с малых лет детям привить уважение к Ча-паеву, доверие к нему и к его словам. В начале Великой Отечественной войны солдаты и мирные жители испытывали моральный упадок, который правительство, конечно же хотело устранить, чтобы поднять боевой дух народов СССР. Но каким образом этого можно добиться? Конечно же, поставить в пример какого-нибудь героя, на которого люди могли бы равняться. И тут перед руководством СССР возникала сложная проблема: большинство из тех, на кого равнялись в довоенные годы, были либо репрессированы, либо деморализованы. И к тому же, возведение в ранг народного кумира кого-то из военных деятелей означало для руководства наделить этого деятеля опреде-ленной властью и при этом неприкосновенностью, ведь известного человека, любимца народа будет сложно «убрать» в случае необходимости. Поэтому руководству ничего не оставалось, как вспомнить героев не нынешних, а тех, кто уже ушел за горизонт истории, например, героев Гражданской войны. К тому же, таких исторических персонажей можно было изображать в любом ракурсе – все равно никто уже не оспорит. Одним из таких героев и оказался В. И. Чапаев. Поэтому в военные годы легендарность Василия Ивановича набрала новые обороты. На фронтах распространялись небольшие брошюрки с рассказами для солдат. В Российской Национальной библиотеке нам удалось ознакомиться с одной из таких брошюр. Это книжка размером примерно с ладонь. Вместо обложки – коричневый картон, на котором ничего не написано. Брошюра была выпущена управлением политической пропаганды Ленинградского военного округа в 1941 году. Содержание – только один рассказ В.Лебедева «Как Василий Иванович Чапаев дрался с немцами», где описывается четыре боевых подвига, за каждый из кото-рых Чапаев поучил «Георгия». Самые важные, кульминационные фразы автор приводит в конце брошюры: «Разве в наших рядах нет Чапаевых? Они есть! Их многие-многие тысячи! Как ни напрягайся Гитлер, все равно его ждет позорный конец. Он будет бит. Народ-герой непобедим. Он сотрет в порошок и Гитлера и всех его приспешников. Победа за нами!» Естественно, такие брошюры передавались из рук в руки, поднимая моральный дух бойцов. Как в Великую Отечественную войну, так и до нее среди обычных рядовых красноармейцев было распространено такое явление, как устное изложение небылиц, баек, сказов. Многие из них, конечно, можно считать основанными на реальных событиях, правдивыми, но подавляющее большинство сказов легко уличить в недостоверности. Для наглядного примера того, как составлялись сказы, какой стиль речи использовался, что казалось солдатам захватывающим и интересным, мы приведем в своей работе один сказ: За Ленина, за Сталина! Исход боя иногда решает внезапность. И действительно, Чапаев брал внезап-ностью. Вот, бывало, он соберет нас и говорит: «Ты, Плясунков, пойдешь с одной стороны, а ты пойдешь с другой стороны. А я в лоб приду. Я в лоб ударю – и они от меня обязательно побегут. А вы их там ловите. Ни один не уйдет». А потом уж приказы издавал. Ну, так и получалось: как скажет, так и будет. Перед боем обязательно говорил с бойцами. Верил он в них и говорил обязательно. При взятии Пугачева много мы у них [у белых] взяли: два тяжелых орудия да шестьсот пулеметов. Снабжались исключительно за их счет. Его спрашивают: «За кого воюете?» — «За Ленина, за Сталина!» Мужик хороший был. Простяк был. Если бы не его лозунг, то казаки бы здесь допустили много чего. Они раз десять – пятнадцать в нашем селе были. Придут, загуляют… Ненавидел он, как и Стенька Разин, богатый класс . Для начала стоит указать на лживость данного сказа. Дело в том, что описываемые события – сражение под Николаевском (после взятия переименован в Пу-гачев) – происходили в августе 1918 года. Сталин в это время был комиссаром на Царицынском фронте, с военной точки зрения – еще малоизвестной личностью. Но даже если Чапаев знал о существовании Сталина, вряд ли он стал бы ставить его в один ряд с Лениным (перед которым Чапаев действительно преклонялся) и упоминать в лозунге. Можно предположить две версии. Либо сказ был составлен гораздо позже, уже после прихода к власти Сталина, для повышения значимости вождя в глазах народа (в таком случае сказ полностью недостоверен). Либо сказ был сочинен действительно очевидцем событий, но фраза, ответ Чапаева впоследствии были изменены. Возможно, на вопрос «За кого воюете?» он ответил «За Ленина, за революцию!» или «За Ленина, за Интернационал!». В любом случае сказ был обработан и нес в себе пропагандистскую роль. Что касается стиля, в этом сказе преобладает сугубо простонародная, даже несколько косноязычная речь. Такие слова, как «бывало», «мужик», «простяк», краткость и обрывистость предложений, повторы фраз, скачки мыслей – все это доказывает, что либо рассказчик был неграмотен, прост в разговоре, либо тот, кто сочинил сказ, пытался подделать простонародную речь. И обязательно, как и в любом другом сказе, рассказчик восхваляет Чапаева, подчеркивает такие качества, как беспощадность к врагу и одновременно доброту к «своим», смелость, уверенность в себе. Но в то же время Чапаев словно противопоставляется остальным солдатам, он в глазах рассказчика не вместе с ними, а над ними, он – не друг и товарищ, а командир, что, впрочем, не принижает досто-инства Чапаева. Происходит явление «отрыва от масс», возведения Чапаева в ранг кумира, легенды. Так же мы случайно наткнулись и на такие совершенно нелепые сказы: В боях против фашистов. В 1945 году старик Федор, который возил дрова в санаторий Черемшаны, рассказывал, что Чапаев не погиб. Его спас киргиз и дал ему огненного коня. А во время боев в войне с фашистами он то тут, то там появлялся на огненном коне в частях Красной Армии, и тогда победа была обеспечена . Безусловно, подобного рода сказы слагались не ради искусства и не из обычного интереса, а, как мы уже говорили, с целью поднять моральный дух солдат, придать им уверенности, надежды на победу даже в безвыходных ситуациях. И использовались в данном случае, конечно, не только сказы и легенды, но и другие виды фольклора. Например, Я. Шведов в годы Великой Отечественной войны написал песню о том, как чудом спасшийся Чапай самоотверженно борется с фашистскими захватчиками. Эта песня получила широкое распространение среди военных и впоследствии была переложена на музыку композитора П. Акуленко. Вот ее фрагмент: В июньскую полночь Услышал Чапай: «Напали фашисты На светлый наш край». Выходит Чапаев На берег крутой: «Ко мне, друг мой верный, Мой конь боевой!» Правда, стоит заметить, что подобное содержание не характерно для песен. В этом жанре, в отличие от рассказов и других художественных произведений, редко рисуется конкретный эпизод боевой деятельности Чапаева. Чаще всего в песнях дается обобщающая характеристика народного героя, его воспевание, относящееся к жизни Чапая в целом, а не привязанное к определенному событию. Исключение составляет, конечно же, гибель В. И. Чапаева, этому эпизоду посвящено очень много песен. И во всех них прослеживаются одни и те же мотивы: о бессмертии любимого командира, о том, что Чапаев жив в сердцах народа, о подви-гах его дивизии: Он умер и не умер, Любимый наш герой. Идет его дивизия На подвиг боевой. Естественно, что во время гражданской войны сочинялись и негативные песни о Чапаеве, авторами которых являлись белогвардейцы, казаки и другие противники советской власти. В советские годы подобные песни уничтожались и скрывались, но несмотря на это некоторые произведения дошли и до наших дней. В доказательство приведем фрагмент из песни казачьего поэта П. Астрова: Из-за волжских гор зеленых На Яицкий городок Большевистские громады Потянулись на восток. Много есть у них снарядов, Много пушек и мортир, И ведет их, подбоченясь, Сам Чапаев – командир. Почитай, во всех поселках Казни, пьянство и грабеж… И гуторят меж собою Старики и молодежь: «Большевистских комиссаров Надо гнать ко всем чертям – Нам без них жилось свободней, Старорусским казакам!..» Вмиг станицы зашумели, И на красные полки Дружно, сомкнотою лавой Полетели казаки. А вослед им улыбался Старый дедушка Яик, И бежал назад с позором Полоумный большевик. Стоит заметить, что даже казаки, ненавидящие Чапаева, называют его: «Сам Чапаев – командир», то есть Чапаев для них – это противник, вызывающий если не уважение, то страх. Упоминание Чапаева в казачьей песне так же говорит о том, что этот герой был широко известен не только среди своих, но даже его вра-ги не нарочно распространяли славу о комдиве. Член РВС Южной группы Восточного фронта Ф. Ф. Новицкий писал в газете «Красная звезда»: «Мне говорили пленные уральцы, что личное присутствие Чапаева в том или другом районе бое-вых действий играло решающую роль у командования противника в смысле более тщательной подготовки операции во всех отношениях» . Возвращаясь к сказам, мы хотим отметить еще один из них, но сильно отличающийся от большинства сказов: Бударинский сказ. Рассказывают… Вот в казачьей станице, в Бударино, когда кончился бой, Чапаев входит в избу, снимает с себя шинель и вытрясает. Все пули, что за день в него попали, и вытряхиваются . Здесь прослеживаются фрагменты уже чуть ли не языческой мифологии, Чапаев представляется как некий колдун, чародей. С какой целью сочинен данный сказ – непонятно, но, по-видимому, это один из тех сказов, которые не были обработаны и изменены в соответствии с указаниями советского правительства. Скорее всего, именно такие сказы и были распространены среди неграмотного населения СССР во время и после Гражданской войны. VI. Фильм братьев Васильевых В 1934 г на основе повести Д. А. Фурманова режиссерами Георгием Николаевичем Васильевым и Сергеем Дмитриевичем Васильевым был создан прекрасный фильм о Чапаеве. Этот фильм не только завоевал себе горячие симпатии советского зрителя, но и с успехом шел за границей. «Чапаева» можно назвать прорывом в мировом кинематографе, ведь киноискусство в те годы только-только набирало обороты. Перейдя от немоты к звучанию в начале 30-х годов, начав осваи-вать музыку, оно еще очень робко подходило к разговорной речи. Братья Васильевы, конечно же, большей частью нарисовали положительных героев и положительные моменты, но режиссеры не побоялись показать в своем фильме и ряд отрицательных сторон, которые имели место в тогдашней Красной армии в первые годы ее существования. В фильме показаны отдельные случаи мародерства, волнения и суета в воинской части, показана трусость отдельных красноармейцев. Чутко, с большим тактом художников братья Васильевы штрих за штрихом создают образ Чапаева, показывают исключительный рост этого стихийного большевика, при этом стараясь не приукрашивать его. Трудно говорить о хороших эпизодах «Чапаева», их действительно немало, но один пример все же приведем. Мы хотим проанализировать сцену перед боем, когда Чапаев, верхом на коне, наблюдает за белыми. «Чапаев – истинный вождь», – вот о чем говорит композиция этих кадров. Выясняется, что эскадрона нет на позиции. Чапаев взбешен, он грозит расстрелять комсека. Но Петька привозит сообщение: «В эскадроне буза и командира убили». Чапаев снова возмущен, но уже «бузой» и особенно убийством своего боевого товарища, которого только что грозил расстрелять. «Как? Убили?» – кричит он и в одиночку скачет к восставшему эскадрону… Васильевы в нескольких действенных репликах и жестах показали сущность Чапаева. Вот он – суровый вождь, который не остановится перед расстрелом товарища, ослушавшегося приказа, и вот Чапаев храбрец, герой, который свою скорбь о боевом товарище и друге выражает мужественным и опасным поступком. Рост Чапаева происходит не за экраном, как во многих других фильмах, а на наших глазах. В. И. Чапаев складывается в типичный характер сюжетно, постепенно, в драматических поворотах. Б. Шумяцкий в статье «Наша гордость» писал о том, что в фильме братьев Васильевых «словам тесно, а мыслям просторно». С ним сложно не согласиться, ведь в «Чапаеве» нет ничего лишнего: нет ни громких агитирующих реплик, ни трафаретного показа врагов, как разлагающихся в кутежах и пьянстве садистов, – нет смысловых штампов. После выхода фильма на экран многие выдающиеся деятели написали свои отзывы. Думаем, стоит привести несколько и в нашей работе, для того, чтобы понять, какие впечатления произвел фильм на тех, от кого в целом и зависело общественное мнение. К тому же, нам было любопытно взглянуть, какие слова подобрали «сильные мира сего» для описания мыслей о фильме, впечатлений, что поразило их больше всего… Участники гражданской войны: М. Н. Тухачевский: «Фильм „Чапаев“ производит громадное впечатление. В чем сила этого произведения? Эта сила прежде всего заключается в стиле социалистического реализма, в стиле могучего советского искусства, в величии эпохи гражданской войны, с такой исключительной яркостью отраженной в фильме. <…> Фильм толкает к пониманию военных задач, к развитию смелости, героизма, к пониманию значения техники и искусного владения ею. Фильм „Чапаев“ мобилизует зрителя к бдительности в борьбе с врагом, который использует всякую оплошность, всякий зевок с нашей стороны». Далее Тухачевский приводит в доказательство полезности воспитательного значения фильма слова маленького мальчика Лени Гуршонова: «Картину „Чапаев“ я смотрел. Очень хорошая картина. Мне очень хотелось бы быть таким, как дядя Чапаев». С. М. Буденный: «Политическая и художественная ценность фильма огромна, его успех вполне заслужен. Это несомненно лучший исторический фильм, отображающий героику и пафос гражданской войны. Фильм смотрится легко, с захватывающим интересом. С технической стороны картина на большой высоте, в особенности звук. Мне лично особенно запомнились массовые сцены, сделанные с большим мастерством». И. С. Кутяков: «В чем же сила фильма „Чапаев“? Прежде всего в том, что Васильевы много и честно поработали над материалом, сумев остаться верными исторической правде и воплотить ее в высокохудожественные образы. В „Чапаеве“ показаны настоящие, живые люди со всеми своими слабостями и недостатками. Васильевы сумели подобрать талантливых артистов и сумели так работать с ними, что, например, Бабочкин не только правдиво передал живой образ Чапаева, но добился максимального сходства с ним, начиная с лица и манеры держаться и кончая интонацией. Блинов дал очень талантливо образ настоящего комиссара гражданской войны. <…> Шкурат, Чирков и другие – все они создали образы громадной силы и громадной правды. Но анализ актерской игры не входит в мои задачи. Я хочу еще отметить, что Васильевы весьма умело и правдиво показали зрителю батальные кадры „Чапаева“. Они даны реально, без всякой театральности. Верная передача психологических переживаний бойцов удалась, по-моему, не только потому, что Васильевы обладают большой эрудицией и большим талантом, но, вероятно, еще и потому, что оба они – участники гражданской войны, которым лично приходилось не раз смотреть в глаза смерти и переживать напряженность и нервозность боя…» К.Е.Ворошилов: «“Чапаев“ – исключительно интересный фильм. Это один из замечательных фильмов нашей кинематографии, фильм, лучше всего показывающий гражданскую войну. Вот уж где нашей молодежи можно поучиться!» Деятели советского искусства: Максим Горький: «Да, Васильевы – настоящие художники! Да, их картина будет жить как великая и вечно живая народная эпопея! Она полна огромного социального дыхания. Посему ее художественное значение непереходяще. Обратите внимание: Чапай утонул, но вы не скажете, что он побежден. Нет – он и мертвый, как живой! <…> Убедительная картина! Я любовался Василь Иванычем, Анкой, Петькой, Клычковым… Вот Чапаев и Петька летят на тачанке… Куда? Вперед, в будущее! Все это чертовски талантливо!» Федор Гладков: «В этом произведении прежде всего поражает величайшая простота. Все от начала до конца в „Чапаеве“ насыщено внутренним напряжением, внутренней сюжетностью, каждый кадр, каждая сцена этого фильма, несмотря на свою простоту, волнует до глубины души. Навсегда запомнятся, навсегда будут тревожить и сцена, когда Чапаев при помощи картошки объясняет атаку <…>, и песня бойцов в глухую ночь, и заключительная сцена гибели Чапаева. Даже самые незначительные сцены волнуют, оставляют неизгладимое впечатление». Александр Фадеев: «Весь коллектив, который создавал этот фильм, приложил очень много труда, и в частности много сделали те люди, которые писали сценарий. Колоссальная заслуга их в том, что из огромного материала о чапаевской дивизии и самой книги Чапаева они выбрали только те моменты, которые особенно подчеркивают основное». Сергей Эйзинштейн: «Примечательна композиция этого фильма. Это не возврат к старым сюжетным формам, снятым первым этапом нашего кино. Это не „назад к сюжету“. А именно: „вперед к новому виду сюжета“. Сохраняя эпическую форму, популярную для начала нашего кино, авторы внутри ее сумели обрисовать такую яркую галерею героических личностей, как это раньше удавалось разве только замкнуто фабульным традиционным сюжетам. Шекспир? Продолжатель Шекспира? Несомненно, если и не правнуки Лира, Макбета или Отелло. „Чапаев“ поэтикой своей композиции примыкает не к ним. Но тем не менее и он в пределах своего стиля может числить Шекспира – Шекспира не менее замечательной драматургии – Шекспира исторических хроник». Не удивительно, что все высказывания о фильме не просто положительны, но даже восторженны, так как целью для данных людей было не только поделиться впечатлениями о фильме, но и призвать людей на его просмотр, ведь, как мы уже отмечали, «Чапаев» нес в себе большую агитационную роль. Размышляя над данным фильмом, литературный критик Н. М. Иезуитов в брошюре «Пути художественного фильма» пишет: «К октябрьским торжествам 1934 года ленинградская фабрика выпустила в свет „Чапаева“ братьев Г. и С.Васильевых. Повесть Фурманова в их лице нашла великолепных интерпретаторов». Но, мы уверены, рассматривать сценарий Васильевых только как кинематографическую интерпретацию повести нельзя. Прочитав сценарий «Чапаева» (он опубликован в журнале «Литературный современник», 1933г, №9; в сборнике «Г. и С. Васильевы. Киносценарии»; в альбоме «Чапаев» из серии «Шедевры советского кино»), каждый может убедиться в том, что он представляет собой ско-рее самостоятельное художественное произведение, нежели просто «интерпретацию». К тому же, многих моментов, эпизодов, и даже героев, изображенных в фильме, в книге не было. То есть, получается, что фильм снят не по книге Д. Фурманова, а по ее мотивам. В завершение нужно сказать, что фильм «Чапаев» стал произведением этапным и сыграл огромную роль в дальнейшем развитии мирового кинематографа. VII. Роль В.И.Чапаева в наши дни Начиная с годов перестройки и по сегодняшний день отношение ко всему «советскому» ухудшается. Это относится не только к политическим идеалам, к искусству, к советской власти, но и к героям, некогда кумирам общества, которые теперь воспринимаются лишь как отошедшие на задний план исторические персонажи. Эта участь не миновала и Василия Ивановича Чапаева: в наше время уже мало кто пишет о нем серьезно, но все-таки некоторые статьи были нами найдены. Несмотря на то, что Д. Фурманов теперь не изучается на уроках по школьной программе, мы недавно, пролистывая учебник, случайно наткнулись на статью, посвященную творчеству этого писателя. Так как учебник выпущен в 2005 году, то и мысли, изложенные в нем, разительно отличаются от того, что писали о Д. Фурманове и о «Чапаеве» в советские годы. Например, анализируя эпизод про то, как Чапаев отчитывал солдата за воровство, автор сравнивает Чапаева с «крестьянским Христом» . Это еще раз подтверждает, что идеология, политика власти влияет не только на создаваемое искусство, но и на мнение об этом искусстве. Изменилась власть – изменилось отношение и к литературе, и к Чапаеву, как исторической личности. Раньше ставили в пример то, что Чапай нещадно расправляется с врагом, без жалости убивает противников советской власти, теперь же, как это ни парадоксально, этот герой представляется Христом. Изучая то, что было написано о Чапаеве в постсоветские годы, мы решили попытаться найти публикации в журналах и газетах. Пересмотрев в Российской национальной библиотеке «Летопись журнальных статей», начиная с 1991 года, мы обнаружили всего лишь 3 статьи, посвященные этому герою: 1. В журнале «Уральский следопыт» приведена статья Д. Фурманова, посвященная гибели Чапаева (о ней мы писали в данной работе в разделе «Биография Чапаева. Чапаев в дореволюционные годы»). 2. В издании «Филологический поиск» О. А. Чиркова размышляет над тем, что являлось фольклорно-мифологическими истоками образа Чапаева в современных народных анекдотах. 3. И последняя публикация – это ранее упомянутая статья С.Балмасова «Тайна гибели Чапая: последний бой легендарного комдива» в журнале «Родина» , где автор опровергает всем известную версию гибели В.И.Чапаева. Безусловно, говоря о Чапаеве сегодня, очень сложно не упомянуть про бесконечное множество анекдотов, сложенных об этом герое гражданской войны. Почему же именно о Чапаеве они стали сочиняться, передаваться из «уст в уста»? Стоит отметить, что именно образ Чапаева обладал некой разносторонностью и универсальностью в глазах народа. Во-первых, он был командиром, то есть представителем советской власти. Когда эта власть перестала существовать, люди, давно мечтавшие преодолеть социальную разобщенность, обеспечить хотя бы воображаемый фамильярный контакт с теми, на кого они были обязаны ровняться, стали словно в отместку, жадно и ненасытно сочинять анекдоты о политиках и героях. Таким образом, они пытались оторваться от своего социального положения, морально подняться выше на фоне осмеянных исторических личностей. Во-вторых, Чапаев еще воспринимался и как выходец из народа, поэтому ему очень легко можно было приписать те пороки и недостатки, которые зачастую проявлялись в низах общества. Это и пьянство, и лень, и необразованность и многое другое. А. Ф. Седов, исследователь, занимающийся изучением жанра анекдотов, в очерке «Политический анекдот как явление культуры» пишет о том, что различные авторы часто пытались превратить цикл анекдотов про Чапаева в некий роман-анекдот. «Но попытки эти оказались несостоятельными, книжонки получились совершенно никудышными. Сюжет не выстраивался, ибо такового нет. Характер дробился, как в калейдоскопе, ибо данный характер как раз-то и несводим к одной семантической функции, а каждом из анекдотов реализуется несколько иная семантическая доминанта. Поэтому роман-анекдот не складывается…» . Но данную мысль можно оспорить, ведь во многих анекдотах мы можем наблюдать не только целостный сюжет, но даже систему сюжетов, которая растягивается на несколько анекдотов, образуя тем самым анекдотический сериал (например, множество анекдотов про то, как Чапай с Петькой переплывают Урал). А О. А. Чиркова в статье «Фольклорно – мифологические истоки образа Чапаева в современном народном анекдоте» даже возводит анекдоты о Чапаеве в ранг художественной литературы. «Анекдоты о Чапаеве, – пишет она, – очень яркое явление с подробной фабулой и многогранной тематикой. Оно в полной мере представляет творческий метод жанра, закономерности которого действуют и при создании других устно – юмористических циклов» . Положительную или отрицательную роль сыграло бесконечное множество анекдотов о Чапаеве на отношение людей к этому историческому персонажу – неизвестно. Бесспорно лишь то, что анекдоты значительно поспособствовали процессу мифологизации этого героя, отдалили Чапая, известного в народе, от Василия Ивановича Чапаева, сражавшегося и погибшего во время гражданской войны. Несмотря на то, что в современной художественной литературе Чапаев фигурирует крайне редко, все же в 1996 году его имя прогремело повсюду. Мало кто не слышал о книге современного писателя В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота». Хотя в данном произведении Чапаев выступает как начальник дивизии, как герой гражданской войны, но с настоящим историческим персонажем он имеет немного общего. Вот как описывает Пелевин своего Чапаева в начале романа: «На вид ему было лет пятьдесят; у него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. […] Его глаза были черными и пронизывающими» . Если не считать возраста и седины на висках, портрет вполне напоминает реального Чапаева, но на этом сходства заканчиваются: Чапаев Пелевина превосходно играет на рояле, от него исходит аромат дорогого английского одеколона, он обладает интеллигентной манерой разговора и различными сверхъестественными способностями . Но затем Чапаев резко и кардинально изменяется, и в следующий раз он появляется перед нами в рубахе навыпуск, пьющим самогон и закусывающим луком. Теперь в его разговоре нет ничего интеллигентного: вместо «чего» он говорит «чиво», вместо «это» – «енто» и так далее. Затем Чапаев меняется еще раз, а потом еще раз. Но на протяжении всей книги он остается в первую очередь философом, старается что-то объяснять Петьке так же, как Клычков постоянно что-то разъяснял Чапаеву о политике в повести Фурманова. Но в разговорах Чапаева и Петра Пустоты мы не найдем ни политики, ни разъяснений военной ситуации, Чапаев рассуждает большей частью о сознании, о мироздании, о том, что является реальностью, а что – нет. Вот пример размышлений Чапаева: «Все, что мы видим, нахо-дится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится гдето, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде» . По задумке В. Пелевина, образ Чапаева в романе «Чапаев и Пустота» расплывчат и неоднороден. В конце романа Петр приходит к выводу, что несмотря на то, что он провел с Чапаевым много времени, он не узнал об этом человеке ничего конкретного. - Так кто же вы, Василий Иванович? - Я? — переспросил он и поднял на меня глаза. – Я отблеск лампы на этой бутылке . Но разве можно было ждать от данного произведения конкретики или хоть малейшего сходства с реальностью, ведь уже описание романа в критике говорит само за себя: «первый настоящий дзэн-буддистский роман в России» , Чапаев же в романе – своего рода «мастер дзэна», ведущий Петра к просветлению . Основой для романа послужили анекдоты про Чапаева, в которых Виктор Пелевин увидел «дзэновские коаны, вопросы без ответов» , поэтому эти анекдоты то появляются, всплывают в эпизодах, то исчезают, не имея при этом определенного смысла или роли, влияющей на сюжет. Чапаев просветляет Петьку, и в конце романа Пустота уезжает во «внутреннюю Монголию», то есть оказывается в нирване. В. Пелевин в этом романе открыто заявляет, что основная идея его произведения – дзен-буддизм («Мир, в котором мы живем, – просто коллективная визуализация, делать которую нас обучают с рождения» ). Но несмотря на «пропаганду» буддизма, «Чапаев и Пустота» остается постмодернистским романом. В любом случае воспринимать роль Чапаева нужно всего лишь как роль выдуманного художественного персонажа, и никакой параллели между историческим героем и Чапаевым у В. О. Пелевина нет. VIII. Заключение Такой персонаж, как Василий Иванович Чапаев сыграл огромную роль не только в развитии исторического процесса, но и сильно повлиял на искусство. В советские годы образ Чапаева вдохновлял авторов на написание повестей, песен, пьес. А сегодня мало кто не знает хотя бы несколько анекдотов про этого героя. Почему же именно Чапаев стал всенародно известен, ведь помимо него были сотни талантливых военачальников? В 1908 году в статье «Разрушение личности» Горький писал: «Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, все прославленные образы и типы. […] Сама по себе, вне связи с коллективом, вне круга какой-либо широкой, объединяющей людей идеи, индивидуальность инертна» . Чапаев же смог объединить в себе те черты, которые были присущи и потому понятны, близки народу. Он действительно представляет собой «поэтическое обобщение» качеств красноармейца, причем как положительных, так и отрицательных. Но нельзя недооценивать роли Чапаева как профессионального организатора, начальника дивизии, ведь во многом благодаря его действиям Красной Армии удалось одержать победу на Восточном фронте в борьбе с чехословацким корпусом, с войском Колчака, с казаками. Отчасти и по-этому Василий Чапаев долгое время воспринимался советскими людьми как некий символ стремительного движения, неуловимости и победы. Но, конечно же, такому восприятию личности этого героя сильно способствовало и руководство страны – властям было необходимо поставить в пример народу человека, боровшегося и погибшего за их идеалы. Постепенно Чапаеву стали приписываться несуществующие заслуги, подвиги, образ этого героя стал обрастать мифами, порой доходящими до абсурда. В нашей работе мы попытались отделить множество мифов и легенд от реальных исторических событий, указать на несоответствия между образом Чапаева и документальными фактами. Но полностью определить, где достоверные данные, а где миф, наверное, невозможно, так как почти за 90 лет образ Чапаева превратился в цельную, неразрывную совокупность реального и легендарного. Изменения, деформация образа Чапаева под влиянием властей происходила постепенно, в соответствии с теми или иными задачами, преследуемыми государством, поэтому и В. И. Чапаев в глазах общества изменялся таким образом, что в разное время акцент делался на разные качества, присущие этому герою. Из-за этого изменялся и характер литературы о Чапаеве, появлялись новые факты, отрицались старые. Все эти противоречия, разногласия, возникающие в процессе мифологизации, привели к тому, что на сегодняшний день вряд ли возможно выделить хотя бы несколько изданий или просто биографических статей, в абсолютной достоверности которых можно было бы не сомневаться. Чапаев является одной из тех личностей, о которых знают все, и в то же время никто не возьмется утверждать, что именно в информации об этом герое гражданской войны можно назвать правдивым и неоспоримым. Лена Ильина =============================== Литература. Источники: 1. «Гулял по Уралу Чапаев-герой»: Сб. тематических анекдотов. М., 1996 2. Легендарный начдив: Сб. документов. Чебоксары, 1986. 3. «Синдром Василь Иваныча»: Сб. анекдотов. М., 1997 4. «Чапай»: Сборник нар. песен, сказов, сказок / Сост. В. Паймен. М., 1938 5. Баныкин В. Рассказы о Чапаеве. Куйбышев, 1950 6. Горький М. Литературно-критические статьи. М., 1937. С. 32 7. Козлов В. Рядом с Чапаевым: Воспоминания личного шофера. М., 1968 8. Кононов А. Рассказы о Чапаеве. Петрозаводск, 1982 9. Кутяков И. Боевой путь Чапаева. М., 1936 10. Кутяков И. С Чапаевым по Уральским степям. Борьба с Уральской и Чехо-Словацкой контрреволюцией. М.-Л., 1928 11. Лебедев В. Как Василий Иванович Чапаев дрался с немцами. Л., 1941 12. Лифшиц В. Сабля Чапаева. М.-Л., 1939 13. Лихачева З., Матвеева Е. Вася Чапаев. Ленинград, 1980 14. Маркин А. Приключения Василия Ивановича в тылу врага и на фронте любви. М., 1994 15. Новицкий Ф. Из воспоминаний о В. И. Чапаеве // Красная звезда. 1939. 5 сент. 16. Пантелеев К. О походах и встречах: Записки рядового чапаевца. Калининград, 1971 17. Пелевин В. Чапаев и Пустота. М., 2000 18. Разумневич В. Зарево. М., 1977 19. Сказы о Чапаеве / Сост. Т. Акимова. Саратов, 1951 20. Ухсай Я. Встреча с Чапаевым: Сб. стихов. М., 1968 21. Фурманов Д. Чапаев / Приложение к газете «Гудок»; Переработка Е. Виноградовой Е. М., 1925 22. Фурманов Д. Чапаев. Иркутск, 1973 23. Фурманов Д. Неизвестный Чапаев // Уральский следопыт. 1992. №3 24. Фурманова А., Лунин С. Чапаев. М., 1939 Исследования: 1. Василий Иванович Чапаев – легендарный герой гражданской войны: Сб. к 75-летию со дня рождения. Киев, 1962 2. «Чапаев»: О фильме. М., 1936 3. «Чапаев»: Шедевры советского кино. М., 1966 4. Ахунзянова Л. Легендарный начдив В .И. Чапаев. Уфа, 1982 5. Балмасов С. Тайна гибели Чапая: последний бой // Родина. 2001. №11 6. Бирюлин В. Народный полководец. Саратов, 1986 7. Василий Иванович Чапаев / Ред. Е. Востоков. М., 1953 8. Генис А. Поле чудес: Виктор Пелевин // Звезда. 1997. №12 9. Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования. М.: Новое литературное обозрение, 1999 10.Елагин А. В.И.Чапаев в степях Западного Казахстана. Алма-Ата, 1958 11.Кадишев А. В. И. Чапаев – легендарный герой гражданской войны. М., 1948 12.Казахский мемориальный музей В. И. Чапаева. Алма-Ата, 1986 13.Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002 14.Курганов Е. Анекдот. Символ. Миф. СПб., 2002 15.Мелетинский Е.М. Поэтика Мифа. М., 2000 16.Писаревский Д. Рождение фильма. М., 1974 17.Русская литература ХХ века. Учебник для 11 класса / Под ред. В.П.Журавлева. М., 2005 18.Седов А. Политический анекдот как явление культуры // Весы: Альманах Саратовского гос. университета. 1999. №11 19.Спирин Л. Народный герой В.И.Чапаев. Чебоксары, 1957 20.Стрельцов И. Красный путь 22-й дивизии. Самара, 1930 21.Флад К. Политический миф. М., 2004 22.Чапаев А. В., Чапаева К. В., Володихин Я. А. Василий Иванович Чапаев. Чебоксары, 1987 23.Чиркова О. Фольклорно-мифологические истоки образа Чапаева в современных народных анекдотах // Филологический поиск. 2000. Вып.4 Статья взята с http://www.marksizm.info/root/example/2006/02/21/chapatistranzistrukstrinter.html |